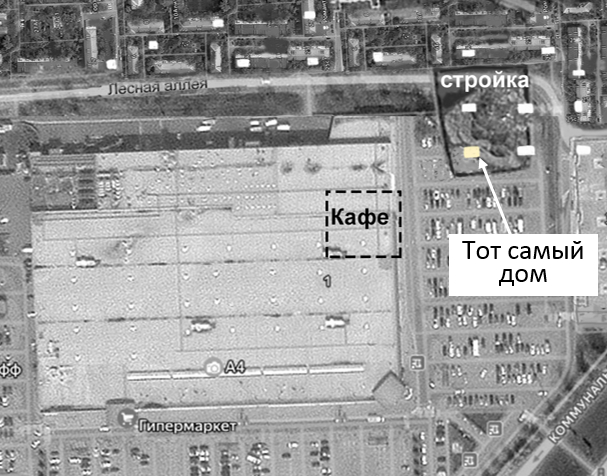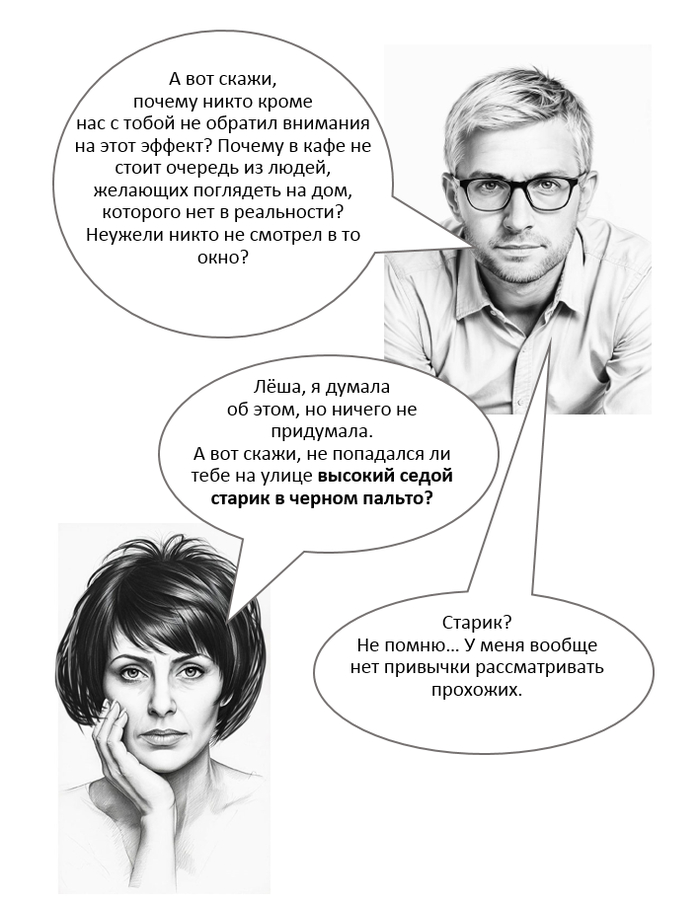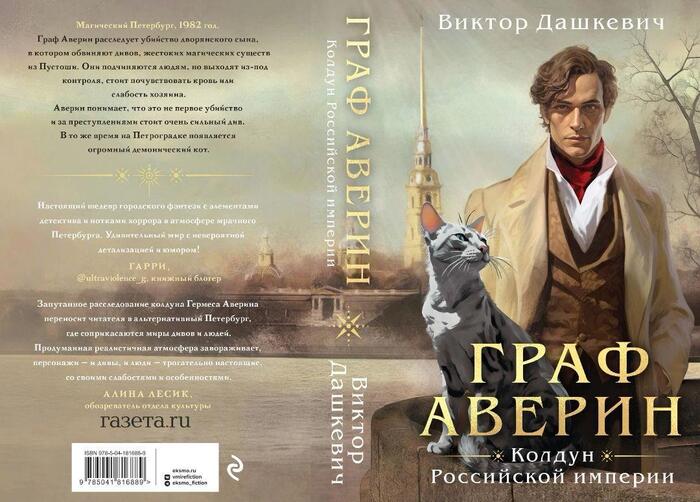На выходе из здания аэропорта группу ждал уазик-«буханка».
— Сейчас поедем ко мне, перекусим, там и скинете вещи, — неожиданно разговорился обычно немногословный Ючи. — На карьер будем добираться сначала на «Трэколе», потом на снегоходах. Можем на обратном пути поохотиться, если увлекаетесь. Но это завтра. Сегодня уже темнеет.
— Дядь Ючи, а баньку истопишь? — оживился Владимир.
Аркадий Петрович с нотариусом вышли у двухэтажного деревянного здания, судя по вывескам, административного значения.
— Я присоединюсь к вам чуть позже, пока нужно уладить некоторые вопросы, — сообщил Аркадий Петрович, уже задвигая тяжелую дверь микроавтобуса.
Роман поглубже втянул голову в пушистый и теплый воротник своего бушлата. Хатанга встретила их низким, набрякшим небом, которое будто давило сверху, заставляя пригибаться. Казалось, стоит ему опуститься еще на метр — и его можно будет задеть рукой с крыши любого двухэтажного барака. Здесь, на семьдесят второй параллели, пространство обретало иное измерение. Время, казалось, вязло в морозном воздухе, становясь густым и медленным.
Посёлок, распластанный по высокому берегу реки, выглядел не просто временной стоянкой человечества. Скорее, как место, куда люди попали случайно и где им не следовало задерживаться. Казалось, стоит отвернуться — и Хатанга исчезнет, растворится в белой пустоте, будто её никогда и не было.
В порту ржавые остовы старых барж вмерзли в лёд, словно скелеты доисторических чудовищ, готовые шевельнуться под толщей снега. Иногда ветер, пришедший прямиком с моря Лаптевых, проходил между ними, и казалось — это не порыв воздуха, а чей‑то тяжёлый, холодный вздох. Он пах не солью, а стерильной, обжигающей пустотой, от которой внутри поднимался холод, не имеющий отношения к температуре.
В Хатанге не было полутонов. Либо слепящая белизна снега, от которой резало глаза и мир казался выцветшим, лишенным смысла. Либо густая, как деготь, полярная ночь, прошитая зелёными швами северного сияния. Порой эти швы вспыхивали так ярко, что казалось — небо трескается, и сквозь разломы проступит что‑то чужое, древнее, наблюдающее за людьми с равнодушным интересом.
И каждый, кто приезжал сюда впервые, рано или поздно ловил себя на мысли: Хатанга смотрит на тебя. И ждёт.
Шаман сидел у костра, медленно помешивая густое варево в котле, где варились куски оленьего мяса, корни и травы, собранные в короткое лето. Каждый звук в тундре был вырезан из тишины с остротой лезвия: воздух не просто звенел под воздействием усиливающегося мороза — он гудел низкой, почти неслышной нотой, как натянутая струна между землей и небом, где вечная мерзлота сковывала почву в многометровый панцирь льда, не давая жизни уйти глубже корней.
Пламя, приземистое и яростное, жадно лизало почерневшее дно, выплевывая искры, которые гасли в воздухе, не долетев до снега, — их свет был таким же мимолетным, как вспышки северного сияния в разгар полярной ночи.
Эта ночь была не черной бездной, а бесконечными сумерками крайнего севера, где солнце, стесняясь своего скудного тепла, не решалось опускаться за горизонт, и даже ночью все равно заливало небо холодным, пепельным светом, словно призрак, отказывающийся уходить.
Над всем этим висела луна — призрачно-бледная, как бледная, нездоровая рана на небосводе, сквозь которую просачивался другой мир, мир духов и забытых предков. Ее свет не освещал, а подчеркивал мертвенную бледность снегов, отбрасывая слабые, размытые тени, в которых таилась пустота тундры — бескрайней, безжалостной равнины, где горизонт сливался с небом в единую белую линию, прерываемую лишь редкими холмами торосов, нагроможденных ветрами арктических штормов. Тундра здесь, на краю света, была не просто землей — она была живым существом, дышащим холодом, где каждый вдох ветра нес пыль снега, смешанную с солью далеких морей, и шепот древних легенд о великанах, спящих под льдом.
Мороз крепчал, сжимая тундру в ледяных тисках,
В этой суровой колыбели крайнего севера, где лето длится всего несколько недель, а зима правит безраздельно, жизнь цеплялась за каждый клочок: олени, освобожденные от упряжи, чутко вздрагивали ушами, раскапывая копытами снег в поисках ягеля — скудного мха, что питал их в этой бесплодной пустыне. Время от времени они замирали, повернув морды на север, словно улавливая зов далеких стад или предвестников бури, что могли обрушить на стойбище вихри снега, способные стереть следы человека за часы.
Собаки, свернувшись неподалеку в пушистые клубки, рвали мерзлую рыбу на жесткие куски, и низкое рычание в их глотках эхом отзывалось на смутное беспокойство — они чуяли то, что люди не улавливали. Снег скрипел под ногами не хрустальным звоном, а глухим стоном, будто ледяная броня земли была тоньше, чем казалось, и под ней бурлили подземные реки, несущие тепло из недр, но никогда не прорывающиеся на поверхность.
Но спокойствия не было в самом шамане. Он отложил ложку и уставился на призрачный лунный лик, пытаясь прочесть знаки в этом холодном сиянии. Тревога зрела не в мыслях, а в самой плоти — струилась по старым шрамам от звериных когтей и морозных ожогов, сжимала сухожилия натруженных рук, заставляла сердце биться чуть чаще, без видимой причины. Она была неслышной и невидимой, как давление перед бурей, которое чувствуют лишь старые кости, пропитанные солью арктических ветров. Может, дело в небе? В тех странных, несвоевременных всполохах на севере — не ярких лентах сияния, что танцуют в честь духов, а болезненных, зеленоватых судорогах, похожих на отражение далекого, подледного пожара, где магнитные бури крайнего севера искажали ауру земли. Не к добру — такие знаки предвещали беды: обвалы ледников, потерю стад или вторжение чужаков с юга, несущих грязь и болезни.
А может, в этом неосязаемом чувстве, будто за спиной, из самой сердцевины тундры — этой бескрайней паутины замерзших озер и болот, где летом комары роились тучами, а зимой все замирало в ледяном сне, — кто-то наблюдает. Не духи предков, с которыми у шамана был ясный диалог через ритмы бубна и жертвы; не хитрые песцы, воровато шныряющие по окраинам стойбища в поисках объедков.
Что-то иное, холодное, оценивающее, бездушное. Взгляд самой пустоты, которая обрела любопытство и теперь скользит по затылку, когда он поворачивается к костру; таится в каждом порыве ветра, что внезапно меняет направление, неся с собой запах соли от Ледовитого океана или пыль вечной мерзлоты; эхом отзывается в ненормальной тишине, где даже полярные совы не кричат в сумерках.
Шаман откинул голову, подставив лицо призрачному свету луны и вечному солнцу-призраку, и вздохнул — дыхание повисло густым облаком, медленно оседая на меховую накидку из оленьих шкур. Он натянул ее поплотнее, но внутренний холод предчувствия не прошел.
Тундра, этот крайний север, где люди веками сражались с природой за выживание, говорила с ним на языке холода, звезд и крови: равновесие нарушено. Что-то вошло в этот мир — сквозь трещины во льду, через искаженные сияния, из-за горизонта, где кончаются карты и начинаются легенды о конце света. Что-то проснулось в глубинах, где спят древние силы, и оно уже здесь, дышит ему в спину, наблюдает бледными, безразличными очами с того края мира, где земля встречается с вечным льдом.
Конец первой главы.